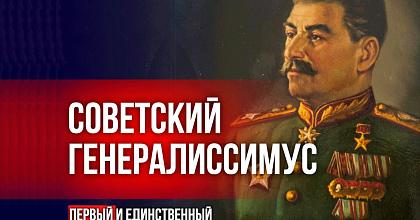В день рождения Николая Васильевича Гоголя как раз самое время прочитать статью доброго друга Московских суворовцев отца Николая Булгакова, раскрывающую мысли Н.В.Гоголя о тайне России, тайне жизни и о нас сегодняшних…
К нам ныне возвращается целостность жизни.
Небо и земля. Душа и тело. Царь и народ. Молитва и труд. Духовенство и воинство. Жизнь временная и вечная.
Всё это стало соединяться — и оживать, ибо жизнь истинная — такая, какая она есть на самом деле — может быть только целой.
Стала соединяться воедино история Отечества — всех ее веков, со всеми ее событиями, сословиями. И мы стали различать истинный смысл бытия народа.
И так же целостным открывался нам давно, казалось, знакомый нам образ — Николай Васильевич Гоголь. Знакомый — но что-то в нем, как нам объясняли, было лишним, странным, чуть ли не болезненным. Долгие годы этот образ — вольно или невольно — искажался. Нам намеренно выставляли на вид художественное творчество великого писателя — и отсекали то, что и ему самому, и нам в его неповторимом духовном пути было важнее всего.
От нас не требовалось глубоко вникнуть в наследие Гоголя самого позднего, самого зрелого этапа его жизни — достаточно было положиться на письмо В.Г.Белинского к Гоголю с резкой критикой книги-исповеди, книги-проповеди, книги — «программы национального спасения», как назвал ее публицист М.Ф.Антонов, «Выбранные места из переписки с друзьями». Но ведь и Белинский этой книги полностью не читал — в первом издании важнейшие ее главы цензура заменила точками.
Если «Выбранные места из переписки с друзьями» чуть ли не сразу после выхода в свет легли в тень отвержения, неприятия, полностью почти не издавались, то «Размышления о Божественной литургии» вообще у нас в советское время не печатались, не вошли даже в так называемое Полное собрание сочинений писателя 1937—1952 годов, будто он их вовсе не писал.
Только целым Гоголь может быть понят — таким, каким он был.
Как и вся жизнь, как тайна России — ее прошлого, настоящего и будущего, — он может быть увиден истинно только как православный христианин, — глядя на его путь, на его наследие православными глазами.
Это не есть сужение взгляда. Православие — это полнота, это истина, данная нам Самим Богом. Она была проповедана святыми апостолами, сохранена святыми Отцами Церкви, засвидетельствована кровью мучеников, в том числе и сонма новомучеников Церкви Русской XX века. «Многообразно противоречие, а истина единообразна» (святитель Кирилл Иерусалимский).
Внидите узкими враты, яко пространная врата, и широкий путь вводяй в пагубу, и мнози суть входящии им. Что узкая врата, и тесный путь вводяй в живот, и мало их есть, иже обретают его (Мф. 7, 13-14).
«Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прелазай иначе есть тать и разбойник».
Таков итог жизни Гоголя, его духовное завещание.
Теперь мы можем это наследие, оценив непредвзято, во всей целости, ввести во всю нашу жизнь — и тем стать богаче.
Как это сделать? Как и ныне, на новом этапе русской истории, свободном, кажется, от многих заблуждений и идеологических ограничений, избежать новых недоразумений с этим наследием? Как взять из этого сокровища не всё — о, где там взять всё! всё не возьмешь ни из чего, даже из вида на лошадь с жеребенком поутру, на стог сена... — не всё, но как можно больше? Каков ключ к этому наследию?
Ключ этот — доверие. Ключ этот — взаимность. Нам нужно прочувствовать всю степень доверия к нам Гоголя, его непривычной для нас искренности — ведь книга «Выбранные места из переписки с друзьями» была написана потому, что он «был уже тяжело болен, смерть уже была близко» (этими словами она начинается), — и ответить тем же. Искренность — основа этой книги, не меньшая, а большая обычной. Это непривычная для обычной нашей жизни искренность. Это искренность того, кто в полном, звенящем одиночестве, на чужбине жил вне суеты обычных земных разговоров, приличий, обедов, словечек на ходу о незначащем — нет, только значащим, важнейшим жила душа его в тишине долгие месяцы и годы, только труд, молитва, небо и одиночество, и мысли о родине, о главном в судьбе близких и дальних ему людей, о нас с вами. И вот тут, когда всё отмеривается от тишины, от жизни и смерти, от вечности, всё говорится напрямую. И из самой глубины души, минуя перо, изливается ее чистая правда: «Соотечественники!.. не знаю и не умею, как вас назвать в эту минуту. Прочь пустое приличие! Соотечественники, я вас любил; любил тою любовью, которую не высказывают, которую дал мне Бог, за которую благодарю Его, как за лучшее благодеяние, потому что любовь эта была мне в радость и утешение среди наитягчайших моих страданий — во имя этой любви прошу вас выслушать сердцем мою Прощальную повесть. Клянусь: я не сочинял и не выдумывал ее, она выпелась сама собою из души, которую воспитал Сам Бог испытаньями и горем, а звуки ее взялись из сокровенных сил нашей русской породы нам общей, по которой я близкий родственник вам всем».
«Его идеи были <...> искренни <...> Его воззрения делились миллионами людей умных и высоких душою. Его воззрения были воззрениями первых поэтов за много столетий...», — писал, имея в виду позднего Гоголя, писатель и критик А.В. Дружинин .
Не без помощи письма Белинского к Гоголю, которое нам долгие годы вменялось изучать как единственно возможный взгляд на последний этап гоголевской жизни и творчества, мы встали над Гоголем. Тут сказалась та самая гордость ума, которую Гоголь в своей книге назвал важнейшим недугом нашего времени. Над кем только мы ни вставали! С легкостью в мыслях необыкновенной. Это при нашем-то образовании. Вот и тут тоже. Не только над одним из величайших мiровых писателей, но и над одним из образованнейших людей, одним из русских университетов - как Ломоносов, как Пушкин. Знаток богословия и истории, шедевров мiровой живописи и литературы (конечно, по подлинникам), народных песен... Человек богатого жизненного опыта, до мелочей знавший быт Малороссии и чиновный Петербург, высший свет и простецкую жизнь. Великий путешественник, не раз ездивший по России, совершивший паломничество в Иерусалим, а в Европе трудно найти город, где бы он не жил: Рим и Париж, Вена, Франкфурт, Неаполь… Круг его друзей, знакомых, собеседников говорит сам за себя: Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Мицкевич, Щепкин, Аксаковы, Киреевские, Оптинские старцы…
Итак, да не будет с нами такой беды: то, что покажется нам странным, признать пустым, то, что покажется наивным, признать поверхностным, то, что покажется утопическим, признать безжизненным.
Не будем спешить. Эта книга, может быть, в чем-то окажется и сложнее нашего взгляда на вещи. Это естественно: тот, кто живет в тишине, в углубленности, видит жизнь иначе, чем те, кто «кружится среди мipa». Но ведь затем мы и берем ее в руки — и не раз, а, может быть, несколько раз в жизни, снова и снова перечитываем: на том месте, где не видели в прошлом году ничего, видим вдруг важнейшее для нас сегодня, то, что казалось нам странным, вдруг связывается незримыми нитями с другим, и вот уже — стройная и величественная картина, открывающаяся нашему новому зрению, как в театре, когда поднимается следующий занавес и углубляется сцена. Таково свойство классики, всякой книги, в которой есть крупицы истины — она дает нам столько, сколько мы можем из нее взять, тут ведро никогда не ударится о дно, опустится настолько, насколько хватит у нас веревки.
«Нужно любить Россию», — сказал он так прямо и так просто, с полной убежденностью, что в этой любви — тот самый выход из всех тупиков, которого мы мучительно ищем, о котором и он думал всю жизнь — как о главном. И кончил свой путь, передав нам описание «вечного повторения великого подвига Любви, для нас совершившегося», — Божественной литургии.
Нужно любить Гоголя, скажем и мы, в тон ему просто. Тогда нам откроется его простая правда. И мы полюбим и самые шероховатости этой книги, которую он спешил для нас сделать, ее неоглядность, которой он не побоялся, заботясь не о слоге, но о другом, более важном. Любовь к этому великому порыву всё оценит, всё поставит на свои места. Мы услышим щедрого собеседника, открывшего нам все, что накопил, — и заслуживающего щедрости слушателя, отдающего свое доверие и углубленное внимание.
Тайна России — тайна жизни
С книгой «Выбранные места из переписки с друзьями» связано много легенд. Одна из них — та, что будто бы тут произошла измена Гоголя самому себе, какой-то произошел разрыв в его творческом пути, уклонение в сторону и прочее.
Да, это книга нового этапа в его жизни. «нам ныне возвращается целостность жизни», — сказал он в это время. Но это и книга верности себе, естественное продолжение всей предшествовавшей жизни.
Возьмем статью совсем раннего, 22-летнего Гоголя, набросанную в 1831 году и отделанную для сборника «Арабески» в 1834-м – «Скульптура, живопись и музыка». В ней мы находим то, что сродни мыслям и чувствам последних книг Гоголя. Он писал тогда о том, как задыхается душа в бездушной вещественности, в голом чичиковском материализме.
«Никогда не ждали мы так порывов, воздвигающих дух, как в нынешнее время, когда наступает на нас и давит вся дробь прихотей и наслаждений, над выдумками которых ломает голову наш XIX век. Всё составляет заговор против нас; вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства. Мы жаждем спасти нашу бедную душу, убежать от этих страшных обольстителей и – бросились в музыку. О, будь же нашим хранителем, спасителем, музыка! Не оставляй нас! Буди чаще наши меркантильные души! Ударяй резче своими звуками по дремлющим нашим чувствам! Волнуй, разрывай их и гони, хотя на мгновение, этот холодно-ужасный эгоизм, силящийся овладеть нашим мiром! Пусть, при могущественном ударе смычка твоего, смятенная душа грабителя почувствует, хотя на миг, угрызение совести, спекулятор растеряет свои расчеты, безстыдство и наглость невольно выронит слезу пред созданием таланта… Великий Зиждитель мiра… в наш юный и дряхлый век ниспослал… могущественную музыку – стремительно обращать нас к Нему. Но если и музыка оставит нас, что будет тогда с нашим мiром?»
Конечно, Гоголь писал о настоящей музыке, с которой в наше время многие, увы, разошлись.
Гоголь сказал и сам в «Авторской исповеди»: «Я не совращался со своего пути. Я шел тою же дорогою. Предмет у меня всегда был один и тот же: предмет у меня был — жизнь, а не что другое. Жизнь я преследовал в ее действительности, и пришел к Тому, Кто есть источник жизни. От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движениях его, которые пропускаются без внимания людьми, — и я пришел к Тому, Который один полный ведатель души и от Кого одного я мог только узнать полнее душу».
Он был, как мы знаем, одним из величайших реалистов мiра, «окунул» нашу литературу «в бездонную телесность» , тем и был велик, что всякая мелочь единого мiра была для него живая, значительная (без нее не будет мipa всего). Он привык замечать (и придавать этому значение) такое, чего менее одаренные писатели (да и просто взрослые люди — только дети на это способны) не замечают.
В одном из черновиков первого тома «Мертвых душ» читаем:
«Тут жила родственница их, дряблая старушонка, все еще ходившая всякое утро на рынок и сушившая потом чулки свои у самовара, которая потрепала мальчика по щеке и полюбовалась его полнотою».
Почему — «сушившая потом чулки свои», да еще «у самовара»? Ведь это единственное, что мы во всю жизнь свою об этой старушонке узнали — о всей ее жизни.
Mip безконечен, весь его не описать, даже летящим пером — а вот же вам «на выбор» эти чулки, этот самовар: знайте, что еще миллион всего в мiре есть, достойного того же пера, той же любви, участья — не лучше и не хуже, не в этом дело, любви все достойно, она в этом и заключается, весь мip она вмещает, созданный ею: Бог есть любовь (1 Ин. 4, 8).
Божественное чувство безпредельности всей жизни — важнейшая черта реалиста Гоголя.
У него ружье на стене именно не стреляет, дабы оправдать свое место в пьесе. Оно висит на ней как часть огромного мipa, который прекрасен потому, что все в нем живет, все значительно, все сотворено, всему есть место, ничто не лишнее, не случайное — все любимо.
Да, он окунул нашу литературу в телесность, но он же и вознес ее до небес — вот гоголевский объем! Таков реальный мip в его полноте и единстве.
Он соединил то, что мы привыкли разъединять: небо и землю, низкое и высокое, смешное и печальное, сиюминутное и вечное. Целостность мipa — главное ощущение Гоголя.
Но ощущение целостности мipa — это ощущение Бога, его Творца.
В этом мiре нет мелочей, случайностей, никчемного — все несет в себе отпечаток Создавшего.
Боже, дай полюбить еще больше людей. Дай собрать в памяти своей все лучшее в них, припомнить ближе всех ближних и, вдохновившись силой любви, быть в силах изобразить. О, пусть же сама любовь будет мне вдохновеньем.
Так он молился.
Он был всегда реалистом — и остался на всю жизнь реалистом. Никуда его знание жизни от него не делось.
Оно лишь углубилось. И, прежде всего, углубилось его познание человеческой души. А значит, и жизни всей. Ибо сложнее жизни души ничего нет.
Так появился второй том «Мертвых душ», над которым он работал до последних своих дней, который те, кто слышали его в законченном виде, даже не те варианты, что дошли до нас, поставили именно в смысле реализма выше первого. Так появилась и связалась со вторым томом книга «Выбранные места из переписки с друзьями», «главный предмет» которой, как писал Гоголь, — «психологический вопрос».
Эти книги о том, что жизнь можно сделать лучше, чем она есть, и для этого есть реальный путь. Путь этот связан с устройством души человека: там, в душе, — устройство всей жизни, ее высота и низость. О том, что можно прожить эту жизнь не «небокоптителями», но сохранить душу живу в жизни настоящей для жизни вечной.
Душа может быть мертвой, может быть живой.
Обычно мы привыкли всё отмеривать от привычного, видимого, отнюдь не главного — не от полной правды, не от полной чистоты, не от единственности каждого нашего дня, слова, дела. От уходящего в небытие, умирающего вроде бы с каждым заходом солнца дня, каким бы он ни был смачным, как у Пульхерии Ивановны или у Петуха. Не уходящего в вечность. А ведь именно такой взгляд был бы самым простым, самым верным. Ведь всё в нашей жизни значительно, ведь нам действительно дано безконечное: мip, судьба, продолжение рода, душа. Ведь наши дни действительно включены в вечность. Так что же простого в «обычной жизни», которая, кажется, так непритязательно течет у нас перед глазами, во всем этом ее «коловращении», о чем Чичиков сказал с простодушием усердного телезрителя?
Гоголю все больше жизнь виделась именно так, просто и истинно — отсчитывая от ориентиров незыблемых. Жизнь — от смерти. Родина — от чужбины. Душа жива — от тлена заложенных под проценты «ревизских сказок» с именами навсегда ушедших в мiр иной христиан. И всё вот так, истинно, увидев, он снова поразился Евангельской правде, которая отнюдь не уходит от нашей жизни «куда-то туда», но именно видит ее такой, какая она есть, не затуманенной сиюминутными прелестями быстротекущих дней. Вот они-то, действительно, не реальны: сейчас есть, в уши орет, лезет в глаза всякими «заманками света», хочет, чтобы их цели признали высшими целями бытия, а завтра — след простыл, а послезавтра — и из архивов долой.
Гоголь так и писал, что он пришел к христианству не через чудеса и теории, но через увиденную более пристально жизнь человеческую — ту, на которую и мы все время смотрим.
Великий реалист видел эту жизнь до пятнышка. И так же реально он наблюдал над душой человеческой, прежде всего над своей, «ибо там законы всего и всему: найди прежде ключ к своей собственной душе; когда же найдешь, тогда этим самым ключом отопрешь души всех». И увидел, что большего знания, чем знание Христово, о душе нет.
«Анализ над душой человека таким образом, каким его не производят другие люди, — писал Гоголь, — был причиной того, что я встретился со Христом, изумясь в Нем прежде мудрости человеческой и неслыханному дотоле знанью души, а потом уже поклонясь Божеству Его. Экзальтации у меня нет, скорее арифметический расчет; складываю просто, не горячась и не торопясь, цифры, и выходят сами собою суммы...» И в другом письме: «Поупражняясь хотя немного в науке создания, становишься в несколько крат доступнее к прозрению великих тайн Божьего создания и видишь, что чем дальше уйдет и углубится во что-либо человек, кончит все тем же: одною полною благодарною молитвою».
Он всегда говорил свое задушевное. Он с этого начался как художник — с искренности своей тоски по дому, по Малороссии. Когда оказалось, что эту тоску можно изливать на бумагу, можно писать этой любовью ко всему малороссийскому, началось его великое творчество. Потом, в Италии, для него вся Россия, оставшаяся целиком в стороне, соединилась и стала единым домом — из этой тоски по России, из этой нездешней любви к ней получились «Мертвые души».
Там, вдалеке, его главным делом стали раздумья о тайне русской жизни, ее простого, на каждом шагу кажущегося абсурдным существования. О тайне ее бездны, приковывающей взор даже издалека, бездны вширь и бездны вглубь, бездны, противоположной всему плоскому, однозначному и — тленному.
Для Гоголя в Италии Россия стала другой. Он смотрел на ее настоящее словно бы на прошедшее (как пишет он в «Авторской исповеди»). В том числе и на все ее с первого взгляда, безусловно, кажущиеся слабости, на все еле держащиеся колеса, которые не известно до какого города доедут и о которых русскому человеку сподручнее кажется рассуждать, чем встать и укрепить колесо и об этом уже не думать. И на прочее, несуразное, кажется, и вообще, может, не нужное на земле («Зачем живет такой человек?!» — у Достоевского). Никто, как Гоголь, не показал нелепость, никчемность, кажется, этих безчисленных жизненных мелочей — ну просто из них, из этих несуразностей жизнь наша вроде только и состоит, из этого вечного ношения воды в решете, когда можно взять ведро, шланг провести, насос подключить — и качать... Сколько надо для хозяйства. Нет — именно решетом. А если шлангом (заставили передовой опыт перенять), то дырявым. Чтобы проливалось, чтоб себя замочить, других, ничего не принести. И решето это описал Гоголь во всем блеске. Всю эту безсмысленную маниловскую учтивость, эту тягостную ноздревскую жизнерадостность, все это «врешетеводоношение» русской жизни он показал зримо, как никто. Потому и стал в ряд первых мiровых сатириков.
Сатириков — и поэтов. Живописцев.
Сатирическая поэма — вот изобретение Гоголя.
Ведь вот что удивительно. И вот что для нас, для народа нашего, для всех людей тут важнее всего. Тут — самая суть его творчества, его пути, суть нашей истории, разгадка русской тайны, а значит — и всей мiровой (ибо в других, «нормальных» странах — какие ж загадки? Только потому и загадочна еще жизнь человечества, что не разгадана русская загадка?)
Если бы Гоголь, общепризнанный сатирик, описал всю нашу действительность только как досадную чепуху, о которой и думать нечего, разве что посмеяться, как над курьезом жизни, да и забыть, стараясь самому не попадать в эти безконечные комедии в качестве их участника, — если бы он описал это с одной целью, столь знакомой нашей «обличительной литературе» (да и Белинскому все больше этого надо было от Гоголя), если бы цель у автора «Мертвых душ» была одна: показать, до чего же все это несуразно, никчемно, и быть этого, стало быть, не должно на свете, — то есть вынести этой жизни смертный приговор (так мы и в школе когда-то учили: «Гоголь — обличитель николаевской России»), — если бы он описал русскую жизнь именно так, то он бы не был Гоголем.
Не было бы вообще такой прозы. Не было бы слова «поэма» (которое он сам в своем эскизе обложки первого тома «Мертвых душ» — удивительно, кажется? — выделил намного крупнее самого названия книги). Не было бы летящих лирических монологов. Не было бы не злого, а нежного юмора. Не было бы удивительного разнообразия характеров («Мне хотелось сюда собрать одни яркие психологические явления»). Не было бы продолжения поэмы, возникшего отнюдь не в последний период жизни, но именно тогда же, когда писался первый том, в первом томе есть уже ниточки, ведущие во второй и третий тома. Не было бы этого шестнадцатилетнего колоссального труда, упоительного по вдохновенности, самоотверженнейшего по самоотдаче, углубленнейшего по взгляду в жизнь и раздумьям о ней. О чем писать так долго, если речь идет о никчемности? Чего думать о пустоте? Выставить ее, вывернуть наизнанку, чтобы только показать, что внутри ничего нет? И это можно считать содержанием великой литературы?
Не было бы тогда этого бережного всматривания во все мелочи, благоговейного передавания того самого, неназываемого, едва уловимого, что составляет душу народа, самую ее суть — что Гоголь сделал главным предметом своего внимания и передал нам опять-таки как никто. Не было бы этого обращения на себя — происшедшего с ним, как он говорил, во время писания поэмы и чего он ждал от читателя, от нас с вами. Не было бы того важнейшего, чем кончается первый том — слов о загадке этой самой жизни, только что перед нами во всей, кажется, ясности развернутой: «Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и косясь постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства».
Так что же это такое? Что за странность? Как это понять?
Да, видно, тут все обстоит не так просто.
«Безделицу позабыли! — читаем в «Выбранных местах из переписки с друзьями», где должны были сказаться главные мысли автора «Мертвых душ», в главе, которой не читал Белинский. — Позабыли все, что пути и дороги к этому светлому будущему сокрыты именно в этом темном и запутанном настоящем, которого никто не хочет узнавать: всяк считает его низким и недостойным своего внимания и даже сердится, если выставляют его на вид всем <...>. Пока я еще мало входил в мерзости, меня всякая мерзость смущала, я приходил от многого в уныние, и мне становилось страшно за Россию; с тех же пор, как стал я побольше всматриваться в мерзости, я просветлел духом; передо мною стали обнаруживаться исходы, средства и пути, и я возблагоговел еще более перед Провиденьем...»
Этот взгляд на вещи может показаться неожиданным.
Да, есть люди, которые не имеют мужества посмотреть правде в глаза, говорят, что выставляемые «реалистами» мерзости жизни — это взгляд сквозь черные очки. Понятно.
Есть «реалисты», которые хотят доказать, что у тех, наоборот, розовые очки, что те прячут голову в песок, что в жизни нашей полно всяких мерзостей. И в этом вся правда. Что здесь можно любить, ценить, какие корни? В России недостатки же одни. О каком собственном ее пути может идти речь?
И вдруг читаем у Гоголя, знатока всех возможных несуразностей, от миргородской лужи до подписи в деловой бумаге: «Обмакни», нечто другое — «...передо мною стали обнаруживаться исходы, средства и пути, и я возблагоговел еще более перед Провиденьем...»
Что, пропустить эти его зрелые слова, как красивый речевой пассаж, как некое его «противоречие», которым мы другой раз называем и то, что шире нашего взгляда на вещи?
Но, может, здесь — самое главное для понимания гоголевского взгляда, всего его пути, его творчества, его загадок, «ошибок», «утопий» — названий было немало.
Случайно ли отцу русского реализма, как его всегда называли, суждено было выйти из «коловращения» этой жизни и издалека посмотреть на то, на что можно было смотреть здесь всего лишь как на недоразумение, – посмотреть непростым зрением: вглядеться в самое малое в ней, во весь «дрязг жизни» — безстрастно, без эгоистической нетерпеливой досады перед тем, что мешает нам, но со спокойствием, с материнским даже участием к родному существу, в котором, как бы ни были больны (матери-то!) его недуги и немощи, главнее все равно остаются принятие, забота и надежда?
Да, оттуда, из Европы, в которой все гораздо более разумно, с точки зрения видимой жизни, устроено, и даже вера христианская приспособлена к земным нуждам (то есть, по сути, уже и не христианская, как скажет после князь Мышкин в «Идиоте» у пожившего за границей, а то и в тех же городах, что и Гоголь, Достоевского), — из Европы особенно видна «неуглаженность» русской жизни.
Но при этом Россия для него там соединилась — и яснее ощутилось то целое, то главное, неповторимое в ней, которого не отринешь, которое составляет ее самое, ее суть. Оттуда все эти мелочи, все эти трактиры и оглобли, колеса и пуховые перины до потолка — все они были уже не досадными недоразумениями, но прежде всего были. И остался более высокий, нездешний взгляд на все это, уже над нами стоящее значение этой жизни. Все это было уже отражением той загадки России, загадки жизни всей, которая и стала главным предметом внимания Гоголя, ее-то он и клал на бумагу — в свою поэму.
Вот это сочетание увиденных мелочей русской жизни, проявленных взглядом спокойствия, молитвы и любви, вместе с завораживающей неповторимостью ее всей, целиком, — и есть «Мертвые души», главное открытие Гоголя.
И стало видно: нет, тут не просто недоразумение, с которым надо покончить, и как можно скорее, любым способом: комиссаров ли прислать, чтобы свернули этот нелепый народ в бараний рог, или концессии заключить, чтоб все наши лужи заасфальтировали, улицы выпрямили, наставили ровненько киосков и начали торговать ярко-красочными изделиями. (А из Италии-то разве нельзя было бы на все это вот так, свысока, посмотреть?)
Именно он, нарисовавший ярче всех вроде бы никчемность этой жизни, сказал: нет, это не никчемно. Здесь — тайна. Тайна жизни всей. И тайна эта в том, что жизнь наша человеческая не измеряется шлангами да асфальтами, удобствами и устроением только этих лукавых, по слову апостольскому (какими бы они разумными ни казались), дней. Что существование несовершенств жизни, столь противных представлению человека о должном и в то же время от человека исходящих, — не простое недоразумение: отмахнуться, отряхнуться и дальше идти, — но указание на скрытую загадку жизни, которую нужно разгадать, чтобы идти путем добра. Что жизнь вообще, всегда — неоднозначна, и в русской жизни, может, это виднее всего... Она имеет не одно, но два значения. Она и материальная, и духовная. Она и смертная, и вечная. И падшая, и призванная ко спасению. Многие же будут первые последними, и последние первыми (Мф. 19, 30). Что высоко у людей, то мерзость перед Богом (Лк. 16, 15). Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее (Мк. 8,35).
И эту тайну жизни Гоголь увидел в тайне российского бытия, которое словно бы специально шло всегда вразрез с правдой века сего, чтобы сказать себе и всем: век сей — еще не весь век. Разумность мiра сего — еще не вся разумность. Реализм видимого бытия и жизни временной — еще не весь реализм.
Это было отчасти продолжением главной русской сказочной темы — об Иванушке-дурачке. (Не об Иване-дураке, а об Иванушке-дурачке — как в поэме). О дурачке, который считается таковым потому, что не пользуется шлангом и не заасфальтировал все выемки, какие есть в живой двойной жизни. То есть, о дурачке, с точки зрения земного, однозначного ума. И на Руси бывало людей с таким умом не мало, скромничать не будем, старшие братья Ивана-«дурака» обычно этим и отличались. Но никогда это не было главным, характерным для нас, как для западного мiроощущения, главная черта которого – однозначность («наивность» – по Достоевскому). А в делах, которые чуть посложнее шлангов (есть и такие), он, «дурачок», оказывается, как известно, сметливее, удачливее своих разумных братьев. Таков главный национальный сюжет.
Такова и главная тема Гоголя.
«Мертвые души» — это преодоление кажущейся видимой реальности, ее претензии на полную правду жизни. Это выход к объемному реализму, включающему в себя правду о жизни всей, вместе с вечной жизнью души.
Чтобы увидеть жизнь истинно, надо не отсекать от ее целого только временную и видимую ее часть – иначе существенно искажается и правда видимого. Временное кажется вечным, предельно важным, обожествляется тленное: копейка, вес в обществе – все это начинает казаться по своему значению вечным. А то, что действительно предназначено для вечности, душа человеческая, божественное начало: вера, любовь, - представляется второстепенным, незначащим, а то и вовсе не существующим.
Вся видимая жизнь России, всё ее здешнее существование непонятны, если смотреть только здешними, материальными глазами, ибо судьба России нераздельно связана со Христом, с Его правдой, которую она приняла всем сердцем, впитала в себя, сделала свою землю землей Его жительства, покрыла себя Его храмами, вознесла Его лик на свой стяг, Его веру, переданную Им святым апостолам, сохраненную без человеческих (по своему, «разумному», пониманию) изменений — веру Православную, — сделала главной святыней — и, естественно, приняла на себя наибольшую ярость супротивной силы: Если Меня гнали, будут гнать и вас (Ин. 15, 20).
И Гоголь, который заключил в себе, в данном ему от Бога даровании две главные способности: воспеть всю высоту жизни своим песенным словом и открыть всю пошлость жизни своим сатирическим пером, — показал именно это, важнейшее: как ни будь низка низость века сего, она никогда не будет полной правдой об этой жизни, потому что на ней эта жизнь не кончается.
Тот, Кто явился сюда в рабском зраке, Сын Божий, всесильный Вседержитель, Которого ждали «в гордом блеске и величии» и Который ничего не сделал, чтобы воспрепятствовать позорнейшей казни, отдал Себя на вольную страсть,— именно Он и победил зло мipa, пришедшее в мiр противоположным путем, путем гордыни, победил смирением. Такова тайна жизни. И такова тайна России. Такова тайна, которую ее великий сын стремился всеми данными ему «орудиями» передать своему народу и мipy: прими! И спасись!
Сатирик воспел жизнь, творение Божие, показав одновременно и высокую, божественную, и падшую его природу.
Воспел — ибо падший этот мiр призван измениться, преобразиться и спастись. Воспел — ибо в этот мiр уже пришел Христос — дверь спасения (Кто войдет Мною, тот спасется — Ин. 10, 9), взявший на Себя грех мiра, искупивший его Своею честнoю Кровию. И только в этой греховности, падшести мiра, призванного ко спасению, получившего эту дарованную возможность, — вся правда об этом мipe.
Воскресение падшего человека — главная тема русской литературы, начатая Гоголем.
Ещё в «Ревизоре» мелькает указание на этот единственный путь для того, кто спустился на самое дно порока – и убедился в пустоте и мраке этого дна: путь наверх. Уже Хлестаков, получив всё, чего жаждала тёмная сторона его души, увидел: «Скучно, брат, так жить, хочешь наконец пищи для души, вижу: точно, нужно чем-нибудь высоким заняться».
Да, многое посягало на русскую жизнь, желая сбить её с толку, чтобы стали здесь люди, как говорил Николай Васильевич, ни то ни сё: ни русские, ни иностранцы, ни свои, ни чужие, ни мужик, ни баба — то есть вовсе ничто.
Но не так, кажется, проста Коробочка, на стене которой висит портрет фельдмаршала Кутузова. Не так уж бездарен Чичиков. Не так уж безпробуден Ноздрев и туп Собакевич. Жизнь, слава Богу, бездонна и неожиданна — всегда. Прежде смерти ни в ком не отчаивайся, — учат нас святые Отцы Церкви. И даже Плюшкин, как ясно сказал нам автор «Выбранных мест...», и именно он, познавший весь мрак и холод остывшей души, потому-то именно и будет знать цену теплу и свету, а милость Божия может быть явлена на каждом человеке в любую минуту — и, как это не раз бывало в истории, даже в жизни святых, самый падший станет вдруг «первым ратником добра», и именно его способности — да хоть даже и скупость Плюшкина — могут обернуться на спасение его души, даже хоть чичиковская привычка собирать копейку.
Великий наш святой, преподобный Серафим Саровский, младшим современником которого был Гоголь, приводил в пример купцов (мальчиком он прислуживал в лавке), которые выгодно торгуют нужным товаром в свое время, — чтобы и мы учились у них собирать капитал наш духовный, ибо цель христианской жизни, как он учил, есть стяжание Святаго Духа.
«И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью Небес...» («Мертвые души», том I).
Тайна «Мертвых душ», дали ее устремленных в неизвестность томов раскрыта для нас в «Выбранных местах из переписки с друзьями», которые оканчиваются главой «Светлое Воскресение».
«Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и безпорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» — вот что мы должны всегда говорить о себе».
И что же?
И вдруг — следом:
«Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется Светлое Воскресение Христово!»
Почему?
«Есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит».
Как это может быть? Что за логика?
Логика новозаветная. Сила Моя совершается в немощи (2 Кор. 12, 9).
Вчера Он был, самый униженный из человеков, казнен презренной казнью, — а сегодня Он, Сын Божий, Спаситель Mipa, воскрес!
И восшел на Небеса, и сидит одесную Отца.
Вот закон духовный, открытый людям: Кто из вас меньше всех, тот будет велик (Лк. 9, 48). Вольное смирение, страдание, самоумаление в этой жизни ведут к таинственной победе над злом, над тленом, ведут к жизни вечной.
Вчера спогребохся Тебе Христе, coвостаю днесь, воскресшу Тебе... (Канон Пасхи, прп. Иоанн Домаскин).
Не так ли и ты, Русь?..
Не в этом ли величайший, божественный смысл твоих страданий — и твоих падений: не для спасения ли своего и прощения всех остальных? Не подобный ли смысл временного отпадения народа Израиля открыл нам святой апостол Павел?
Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников...
Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их: так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать.
О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неизследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо всё из Него, Им, и к Нему. Ему слава во веки, аминь. (Рим. 11, 25, 30-36).
«Последнюю, Господи, лишь бы она была в дому Твоем!»
Поздние годы жизни Гоголя обычно принято было считать годами кризиса, катастрофы, словом — потеря всего.
Это если смотреть на судьбу его чисто литературными глазами. Если считать, что выше литературы ничего нет. Так и делала обычно литературная критика. И в ничто ставила всё то в его жизни, что сам он поставил, наоборот, выше даже литературы — он, величайший ее служитель и мастер.
«Внимание к Гоголю-человеку вообще слабо в сравнении с вниманием к художнику в нем, — писал в 1916 году профессор, в будущем протоиерей Василий Зеньковский. — Драма творческого дарования — вот главный объект внимания исследователей; только для объяснения ее и привлекаются факты его жизни, его письма. Конечно, это вполне законно до тех пор, пока не стало ясным, что в Гоголе его художественный дар не был единственной его творческой силой; и, может быть, в неспособности ценить его талант человека и заключается роковой порог, перед которым останавливается большинство исследователей Гоголя. Да и в самом деле, как переступить этот порог тем, кто в религиозных переживаниях Гоголя, в которых ключ ко всей жизни его, видит только болезнь духа, кто считает его гений несвободным уже потому, что он религиозно глядел на свое дело писателя?.. Читая письма Гоголя, а затем их обработку в разных биографических очерках, часто думаешь, что самые привычные движения христианской души кажутся многим совсем непонятными в устах Гоголя, стремившегося серьезно, а не словесно, — глубоко, а не поверхностно, — быть христианином. Надо сознаться, что циническое легкомыслие Ренана, готового одновременно и верить и не верить, чтобы использовать на всякий случай выгоду того и другого, тайно живет в душе многих. И серьезность Гоголя — та серьезность, которая разрушала в нем «литератора» и выдвигала человека, — многим поэтому кажется болезнью. Нельзя по этому поводу не отметить, что есть какой-то яд, какая-то отрава в том обожании литературы, которое господствует вообще в безрелигиозные эпохи, а в наше время в особенности. Что искусство служит не одному наслаждению, а является особым путем к преображению мiра, что выше художника в творце всегда должен стоять человек, что нет и не может быть таких художественных задач, которые человек должен выполнять раньше своих человеческих задач, — это забывается, и серьезность Гоголя, с которой он относился к искусству и его религиозной силе и роли, кажется многим болезненной, безплодной и вредной. Еще более трудный порог представляет так называемый мистицизм Гоголя. Для многих в этом слове чудится какая-то печать проклятия, что-то мертвящее и губительное, — между тем как добросовестное исследование неопровержимо убеждает в том, что так называемый мистицизм Гоголя был симптомом не упадка, а роста тех сил, которые жили в его душе... Гоголя не понять без его «мистики», и если кому угодно укладывать Гоголя на прокрустово ложе своего узкого мiровоззрения, то нужно заранее отказаться от мысли понять Гоголя таким, каким он был в действительности» .
Суть новой эпохи жизни Гоголя, которая набирала в нем силу в сороковых годах, была в том, что все больше для него главным становилось «дело души», дело ее очищения и спасения.
Каждый вечер мы молимся: и отыми от мене весь помысл лукавый видимаго сего жития. Но как быть с обычным реализмом, столь внимательным к видимому мiру? Соединимо ли то и другое, христианство и творчество?
Он перестал быть только писателем, только поэтом. Он стал писателем-христианином. И черточка между этими словами есть главная мука Гоголя зрелых его лет.
Он не мог терпеть раздвоения: то писатель, то христианин. В храме — молится, христианин, дома — пишет, писатель. Он был глубоко православным человеком. И прежде всего, это значит, что он не мог терпеть такого раздвоения. Он верил Христу во всем, весь, целиком.
С искренностью открытого сердца, души, познавшей уже не только верою своею, но опытно убедившейся в истинности правды Христовой в приложении ко всем сторонам человеческой жизни, написал он «Выбранные места из переписки с друзьями» — книгу о том, что не что-то в жизни, не какие-то ее стороны (нравственные, например, заповеди), но всю жизнь нужно построить по Евангелию, весь ее уклад. Никто, пожалуй, из известных светских людей не сказал тогда мiру об этом так прямо и ясно, во всеуслышанье.
Люди были возмущены, что он изменил творчеству. А он именно не изменил — но продолжил творить. Так, как говорило его сердце.
Кто он? Писатель среди людей? Стал писать о том, что христианство соединимо с любым поприщем, с любым затруднением нашей жизни – будь то трудности занимающего важное место или жены губернатора, заботы помещика или матери семейства. А уж о том, кто служит людям словом, что и говорить…
Тут не в том слияние жизни и христианства, чтобы, как католики, оставляя храм, входить во всю светскую жизнь. «Римско-католические попы именно оттого сделались дурными, что чересчур сделались светскими». Православие видит свою задачу не в участии во внешних проявлениях жизни общества, тем более в его общественной борьбе, которая вообще не имеет общего с духом христианства (это чувство своей правоты, стремление помешать другому, борьба за власть…) Но в том, чтобы нести в жизнь дух мира и любви, дух смиренья, дух Христа, Который сказал: Ищите прежде Царства Божия и правды его, и сия вся приложатся вам (Мф. 6, 33).
Да - всё тогда устроится. Экономика, политика, армия, медицина, экология, отношения между мужем и женой, воспитание детей…
Только бы решиться на это!
Католичество как бы приглашает, принимает в мiр Бога для помощи в мiрских делах. А Православие само стремится к Нему.
«Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать Его к себе в домы, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!» Вот о чем болит душа Гоголя, о чем говорит его книга, которая вся дышит надеждой на возрождение православного духа в России, как единственно возможное исцеление от знакомых ему западных болезней, опасных еще и потому, что на первый взгляд могут вовсе не казаться таковыми.
В чем для Гоголя была разница между «Мертвыми душами» и «Выбранными местами…» по сути?
Никакой.
И то и другое он делал с одной целью - «чтоб образумились многие и обратились бы к тому, что должно быть вечно и незыблемо» (XIV, 68).
И там, и здесь он соединил мiрское, житейское – с вечным.
Но здесь автор, художник выступил с невиданной творческой свободой, которая и в XX веке, нарочито отбросившем, кажется, всяческие творческие ограничения, представляется необычайной.
И о чем автор говорит?
Светский писатель вдруг хочет изменить тон и смысл светской беседы — говорит, что нужно изменить всю жизнь. И не каким-то одним декретом, или переименованием страны, или изменением общественной «системы», или строительством чего-то такого, «существенного» (вот построим, сдадим «под ключ» и будем в этом жить дальше уже хорошо). Говорит, что все светские беседы, и вообще все, чем живет, к чему стремится ветреный современный человек, есть не только не совершенство, и не гармония, и не правда, не цель, но просто путь погибели. И останавливаться на этом можно только по безумию, по незнанию основ жизни, на которых она стоит, ценой потери в человеке образа Божия и постепенного ухода в царство мертвых душ (которые внешне могут быть очень даже и ничего, «мордашка ты этакой», в голландских рубашках и с мылом лучшего качества). И, что не утешает, но даже еще больше настораживает, — говоря об этом, автор начинает с себя — со своего несовершенства.
Что легче: признать свою жизнь в корне несовершенной, сделать не одно какое-то усилие, но бодрствовать над собой постоянно, всем своим милым привычкам (страстям) объявить войну — или отвергнуть безпокойное слово?
Человек слаб, природа наша падшая, греховная, она всегда норовит увернуться от главного – от сражения с ее слабостями (с помощью темной силы, которая на этом собаку съела – как тут помогать нашим слабостям, как нам себя успокаивать и обманывать). И человек тут же ухватился за уязвимость автора, пошедшего по новому пути, и быстро обернул то, что было по-братски предложено ему, читателю, на самого писателя.
И – обрушилась буря.
С сути дела (с важнейшего – дела нашего спасения) внимание было перенесено на второстепенное. На вопрос узко социальный (из какого он политического лагеря? На чью мельницу воду льет?) На вопрос литературный – на отход от образного творчества (какое он имеет право? Кто он такой? Его дело - побасёнки). Заметили, что художник отложил свое обычное перо, но не задумались над тем, почему он пошел на такой шаг и в чем значение этого предпочтения для каждого из нас.
Когда Гоголь почувствовал срочную необходимость выдать свою книгу, в обществе уже слишком силен был дух неверия. В этом обществе уже не было сил сказать о себе: «Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым...» Куда там... И книга была на много лет отвергнута, оклеветана.
Да, его собственные письма полны строжайших оценок своей книги — что ни подумаешь о ее изъянах, он сам уже это назвал, еще строже. Да, он извлек из этой истории великий урок для себя. Но мы-то разве не можем не видеть в этих самооценках не отрицание книги, а положительный пример строгости к себе, который нам нужно перенять и обратить на себя? Как и «Ревизор», как и «Мертвые души», как и все, что читаем, видим и слышим — и от чего нас отводили в школе, в критике, отводило и отводит всё вокруг, стремясь обратить наш гнев на «николаевскую» (и любую) Россию, на «социальные язвы», на «систему», на что угодно, только не на себя (что было бы нам на духовную пользу).
«Обращение на себя» — главная суть всей зрелой половины жизни Гоголя, как он сам говорил, главный признак духовного роста.
Да, пользы от книги большая часть публики не получила. Всё сделала, чтобы не получить, и это ей удалось. Отбила от себя это нападение любви! И пришла к потрясениям, от которых всем сердцем предостерегал ее тот, кто делал это так, как мог.
«Он придавал весьма мало значения внешним формам политической жизни, будучи убежден, что народная жизнь зиждется на духовных основах, а не на этой шумной мишуре, с ее призрачной деятельностью... — писал в очерке о «Выбранных местах из переписки с друзьями» П.А.Матвеев. — Русское общество сороковых годов жаждало всякого прогресса, кроме того, который был указан в этой книге... Книга Гоголя, которую объявили плодом его крайней отсталости, как оказывается, значительно опередила свое время. В этом едва ли не главная причина недоразумений, возникших по поводу ее в нашем обществе и печати, недоразумений, тяжело и болезненно отозвавшихся на дальнейшей литературной деятельности нашего великого писателя...
В настроении русского общества сороковых годов очевидно происходил известный перелом, под влиянием идей, шедших с Запада. Этот перелом, однако, пропускается без внимания биографами Гоголя, которые, объясняя недоразумения, возникшие между автором «Переписки» и читающей публикой, останавливаются исключительно на перемене в воззрениях самого Гоголя: он-де вдался в мистицизм, который вызвал общее и естественное неудовольствие во всех здравомыслящих людях...
Герцен и его кружок, которому тогда подчинился Белинский, проповедовал, как известно, полное отрицание христианской нравственности, предлагая заменить устаревшие, по его мнению, догматы последней — новой религией...
Несмотря на строгость господствовавшего тогда порядка, эти новые доктрины, подрывавшие основы общественного строя: религию, семью, собственность, патриотизм — пропагандировались с немалым успехом.
В замаскированной форме они проводились и в печати, которая, в лице своих передовых деятелей, по мере возможности, осмеивала «рассейский» патриотизм. Слово «рассейский» было изобретено и введено Белинским, который, как это видно из его интимной переписки, пока только отчасти опубликованной, ставил руководящим принципом для всех просвещенных друзей прогресса «возбуждение ненависти к гнусной рассейской действительности».
«Пора, — писал он в это время, — освободить личность человеческую от гнусных оков неразумной действительности».
Руководимая Герценом и Белинским печать в условной форме, искусно прикрывавшей содержание проводимых идей, осмеивала все начала нашего общественного и государственного строя, а лежащие в основе их правила христианской нравственности выдавала за затхлую ветошь, противную требованиям естественной морали. Эта пропаганда, недосказанная и только сквозившая в печати, в виду цензурных условий, комментировалась и дополнялась путем устных сношений и кружковых словопрений. По отзыву Достоевского, вполне компетентного свидетеля и очевидца и даже, в то время, участника этой пропаганды, она «овладела сердцами и умами молодежи, во имя какого-то великодушия, так как проповедь о презрении к Отечеству прикрывалась идеей всеобщего братства народов, а христианская религия, семья и собственность отвергались в качестве будто бы осужденных наукой и историей понятий, во имя идеи прогресса» .
Гоголь спешил со своей книгой недаром.
Уже на следующий год после выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями») появился «Манифест коммунистической партии» К.Маркса Ф.Энгельса со словами о том, что «призрак коммунизма бродит по Европе». Там, где жил Гоголь, в западной Европе, разразились революции, повеявшие и на Россию. В стране собирались мятежные общества, кружки, в том числе общество Петрашевского, в которое вошел молодой Достоевский.
Скульптор А.В.Логановский создавал в это же время свои шедевры: «Давид, встречаемый сонмом жен после победы над Голиафом», «Преподобный Сергий благословляет Димитрия Донского на брань с татарами». Немногое из того, что останется от великого Храма у Москвы-реки, когда то, к чему устремился век, совершится.
Главный русский спор
Именно так можно назвать то, что произошло в 1847 году: выход «Выбранных мест из переписки с друзьями», ответ на книгу Белинского, не отправленное ему письмо Гоголя.
Главный спор русской истории последних веков: каким путем идти России? Путем традиционным, православным — или путем «экспериментов», путем западническим, материальным.
Главная наша историческая развилка.
В этом еще одна причина остроты критики Гоголя и того непростого отношения к его наследию, которое было все эти годы.
«В сущности, то любопытное раздвоение, которое обнаружилось в русском обществе в 1847 году при появлении «Выбранных мест...», продолжается до сих пор... — писал в той же статье 1916 года В. Зеньковский.— Его проблемы еще слишком живые для нас, и до сих пор с Гоголем не устают сражаться его противники».
Да, до сих пор... — мы можем сказать и сегодня.
Сегодня развилка все та же, что и в споре между Гоголем и Белинским.
Одна из главных легенд, связанных с книгой Гоголя, — об утопизме ее социальной программы.
В чем эта программа?
Гоголь писал, что главный предмет «Выбранных мест из переписки с друзьями» — «психологический вопрос».
Но ведь книга посвящена многим общественным вопросам. Недаром же первое ее издание было сокращено цензурой. Как это вяжется с психологией?
В этом — суть социального взгляда Гоголя. Он опять-таки соединил то, что мы привыкли разделять, но что нераздельно в жизни: внутреннюю жизнь каждого из нас — не видимую другими, но для каждого из нас самую реальную,— и жизнь внешнюю, общественную.
В обществе всегда действует человек.
А человека без жизни души нет. Здесь — «ключ всего. Душу и душу нужно знать теперь, а без того не сделать ничего». Помня о жизни души — не только своей, но и ближнего и дальнего, о том, что она есть высшая ценность, ради которой — всё, — мы всегда будем стоять на почве реальности, нас и в общественной жизни не собьют с толку никакие ее названия.
Главная разница во взглядах Гоголя и Белинского в том, что для Гоголя все люди, независимо от их социального положения, прежде всего — люди, а потом уж крестьяне, купцы, дворяне, революционеры, консерваторы, цензоры... Закон человеческой души один для всех, так же как закону тяготения земли подчиняются все сословия.
Каждый человек непрерывно живет внутренней жизнью, делает безчисленное множество больших и малых выборов между силой и слабостью, чистотой и грехом. Каждую минуту он может в мыслях, чувствах, делах поступить хуже, а может — выше. Вот в этой реальности протекает жизнь каждого человека. Вот это зло и добро в нас — как раз то, что определяет качество всей жизни.
«Утопизм» Гоголя в том, что он считал, что можно быть хорошим помещиком и дурным, крестьянином добрым и злым. И хороший помещик не хуже злого крестьянина. И добра может принести не меньше. А если смотреть на вещи еще более реально, то один и тот же человек двадцать раз в день может творить то доброе, то злое. Реалист не тот, кто говорит, что человек плох или система плоха, а тот, кто видит оба стремления в каждом человеке, не считает ни одно из них окончательным в нем и всю надежду обращает на доброе начало, потому что только оно создает.
Гоголь написал однажды домой: «Мы все бываем прекрасны и все бываем безобразны. Прекрасны бываем тогда, когда почувствуем истинно, что мы безобразны, и безобразны тогда, когда подумаем, что мы прекрасны».
Взгляд противоположный (изменим общественное устройство, «систему» — и человек, вздохнув свободно, получит возможность и начнет творить добро) — взгляд утопический, ибо не опирается на реальность человеческой души, внутри которой происходит главная борьба. Выносить борьбу вовне, в борьбу «хорошего» крестьянина с «плохим» царем, «хорошей» части общества с «плохой», а прогресс общества связывать с победой «хорошей» — опасная иллюзия, о которой и предупреждал русское общество великий реалист: она закрывает от нас наши грехи и кладет камень недоверия на положительные движения других.
На себя обрати взор — тут решаются все вопросы. Сколько бы тебе ни мешали другие делать добро, даже и наделенные властью, главная помеха в этом себе ты сам, ибо все мы несовершенны, и одно из проявлений нашего несовершенства, главный тормоз для общества — переносить центр внимания на несовершенства окружающего. Сойди с этой мертвой точки, посчитай себя, как считали апостол Павел и все святые, первым из грешников, тогда в тебе начнется духовная жизнь, начнется очищение, а значит, и общество будет улучшаться в своей основе, ибо «общество слагается из единиц».
Да, Гоголь был реалистом. Он видел то, что так не любят видеть и признавать, считают «реакционным» все «прогрессисты»: что человек «сам себе кует еще тягостнейшие оковы, нежели налагает на него общество и власть везде, где только коснулся жизни», как писал он еще в первом варианте «Тараса Бульбы».
В этом — суть главного русского спора, главного вопроса человеческой жизни: что ставить впереди — сначала душа, Царствие Божие, а это все приложится вам (см. Лк. 12, 31), или впереди все остальное («реальное», необходимое и прочее), а душа приложится, мол.
Не приложится.
Вот в этом прохождении мимо главного, невидимого (это же просто «фу», как сказал бы Чичиков), и кроются ошибки, заблуждения, перекосы, а в конечном счете — социальные трагедии.
Из-за чего поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем — два соседа, два дворянина, два Ивана? Не из-за чего. Вот это самое не из-за чего и есть для нас всё, тут происходят все трагедии и раздоры, вплоть до гражданских и мiровых войн. Это не из-за чего — гордыня человеческая, человеческий грех.
Да, конечно, скажут радикалы и «прогрессисты», мы не считаем себя ангелами. Но разве мы творим наибольшие беззакония в обществе? А раз не мы, то, значит, тот, кто переносит внимание с этих, главных беззаконий на второстепенные — на свои, на наши грешки, которые, понятно, есть у каждого человека, — тот реакционер, тот фактически помогает всем этим беззакониям твориться и расцветать.
Но ведь по этой логике свое зло всегда будет меньше какого-то другого. И, значит, до себя мы не дойдем никогда.
Утопичной гоголевскую программу называют потому, что она, мол, недостижима: жизнь никогда не будет построена на благородстве, на любви, на добровольной работе человека над собой.
Тут — смешение идеала и практической цели.
Северный полюс недостижим для многих путников. Но это не значит, что компас врет.
От высоты своей идеал вовсе не становится «утопией», но именно потому и остается верным идеалом, способным нам действенно помочь, указать дорогу.
О том, что у Гоголя не было никаких утопических иллюзий, говорит глава «Христианин идет вперед»: «Для христианина нет оконченного курса, он вечно ученик и до самого гроба ученик <...> Где для других предел совершенства, там для него оно только начинается <...> Ему есть с чем воевать и где подвизаться, потому что взгляд его на себя, безпрестанно просветляющийся, открывает ему новые недостатки в себе самом, с которыми нужно производить новые битвы».
Но почему же все-таки программу «Выбранных мест...» называли утопической?
Потому что она обращена не на все человечество разом, не на них: «консерваторов», «начальников», не на кого-то другого, а на меня. На меня, пишущего эти строки. На тебя, читатель.
То есть, как раз по причине ее практической заостренности: не вообще «общество», «система», а я должен быть добрее, чище, должен добросовестно исполнять свой долг на своем месте. Вот и будет реализм, а не утопия.
А он?
Я, допустим, захочу. А он — захочет?
Я, хороший, захочу, а он, плохой, не захочет (подразумевается). И вся программа — утопия, мол. Что я, один, могу? Слишком малые меры для изменения общества: если все захотят, да вспомнят о долге, да о душе своей подумают... Что за мечты несбыточные? Кто же вспомнит, подумает? (если его не заставить — так и просится сюда знакомая фраза, не так ли? Лубянкой ли, рынком ли — чем-то «реальным». Вот где суть главного русского спора, настоящий водораздел: между христианским взглядом на устройство жизни и любым другим).
В том-то и реализм гоголевского взгляда, что о душе заставить подумать невозможно. А всякие другие основы для «улучшения жизни» — блеф по плану Хлестакова и Чичикова. Снаружи — одно (жизнь по форме вроде бы такая, как будто мы уже стали другими), а по сути — то же самое.
Либо мы верим в доброе начало — и тогда вся наша жизнь строится на «доверии благородству человека».
Либо мы считаем такую веру «утопизмом», верим в «более реальное» — и на этом строим жизнь. Понятно, что каков фундамент, такое и общество.
Но разве доброе начало в человеке менее реально, чем злое? Разве любовь, доброта, нежность, самопожертвование меньше присущи жизни? Разве они меньшей силой обладают, чем вся греховность, которая столь же реальна в нас?
В этом — суть всякого радикализма: другой хуже меня, он больше виноват в бедах общества, с него надо спросить. Это, кстати, тяжелое духовное состояние. Мудрено ли, что из него вырастают трагические социальные потрясения?
Гоголь на себя смотрел иначе:
«Не знаю, много ли из нас таких, которые сделали все, что им следовало сделать, и которые могут сказать открыто перед целым светом, что их не может попрекнуть ни в чем Россия, что не глядит на них укоризненно всякий бездушный предмет ее пустынных пространств, что всё ими довольно и ничего от них не ждет. Знаю только то, что я слышал себе упрек. Слышу его и теперь. И на моем поприще писателя, как оно ни скромно, можно было кое-что сделать на пользу более прочную. Что из того, что в моем сердце обитало всегда желание добра и что единственно из-за него я взялся за перо? Как исполнил его?»
Почему мы не можем перевернуть эту последовательность и сказать: «Да, я сделал не всё в этих условиях. Но ведь если бы условия были другими, я бы сделал больше»?
Потому что такой подход — утопический. Он обращает внимание на то, что могло бы быть, а не на то, что есть.
Да, человека, бывает, надо и принуждать, и ограничивать, в «Выбранных местах из переписки с друзьями» об этом тоже сказано. Но невозможно с этого начинать, это — исключение, а не правило. Правило — любовь, желание принести пользу каждому человеку, правому и виноватому (виноватому — в первую очередь, ибо он первый в ней нуждается), вера в добро каждого человека, сотворенного по образу и подобию Божию, «начиная от царя до последнего нищего в государстве». Любовь — не утопия. «Любовь всемогуща и <...> с ней возможно все сделать».
«Не без воли Промысла высшего определено было мне в последнее время сталкиваться с человеком в его трудные минуты и в самые тяжелые состоянья душевные, в какие только и обнажается передо мной душа человека...» — писал Гоголь перед выходом «Выбранных мест...», 5 января 1847 года, П.А.Плетневу. В этом письме он поясняет свои взгляды на возможности улучшения жизни реальным видением людей, в том числе власть предержащих, показывает пути улучшения жизни с их участием, соединением с ними в общих добрых делах, а не разлада с ними или, тем более, борьбы, которая будто бы приносит пользу чуть ли не всем. Вот это христианское садовничество, мир душевный в себе самом и с любым человеком, без которого нет согласного труда, в том числе и с «занимающим важное место». Желание терпеливо держаться добра и ждать, когда оно привьется, заплодоносит. Христианин тут первый реалист, он хорошо знает, сколько терпенья нужно в этом постоянном взращивании добра в духе согласия, в котором и может вырасти что-то настоящее, доброе. Нетерпение, уныние, революционное желание плюнуть на все, вырвать с корнем — рушат плоды настоящих, долгих, истинных, духовных трудов, в которые только и верил Гоголь, хорошо зная человеческое устройство (как много потом труда положил Достоевский на то, чтобы показать свое, пожалуй, главное: что именно устройство души человека открывает несостоятельность всякого иного, чем христианский, социального пути).
«Люди знатные, — писал Гоголь в этом письме Плетневу, — и вообще находящиеся в высших кругах, имеют горькие и скорбные душевные минуты и не находят даже и средств показать себя с настоящей и с лучшей стороны своей, и положенья их, если рассмотришь внимательно все обстанавливающие их обстоятельства, так бывают трудны, что не бывает решительно средств выйти из необходимости быть в черствых и в холодных сношениях с людьми.
<...>Все живущие в Петербурге, хорошие и дурные без исключенья, более или менее покрываются, сами не слыша, наружною (очевидною для других и незаметною для себя) обмазкою эгоизма, и, поверь, она у всех нас. Рассмотри себя построже: ты и в себе отыщешь признаки того...»
Это могла быть важнейшая тема русской литературы: психологический показ людей высшей, государственной сферы (над которыми уже собиралась черная туча «прогрессивной» ненависти, которая затем в нашей истории разразилась неисчислимыми бедами всего народа).
Здесь, в этих коротких психологических набросках — материал для серьезного романного исследования, тонкой обрисовки характеров. «Срывание всех и всяческих масок» со власть имущих Л.Н.Толстым было уже шагом назад от этой — и социальной, и художественной — вершины Гоголя. Если бы Гоголь осуществил свое видение в романе, он дал бы глубокие и реальные образы этого труднейшего для понимания, для изображения в литературе круга людей.
Столь же серьезным было его отношение к Государю.
Гоголь, как истинно русский человек, чувствовал свое единство со всем своим народом, в том числе, конечно, и с тем, кто несет наибольшую тяжесть в государстве, чья власть освящена Церковью при венчании на царство и кому предстоит держать ответ пред судом более строгим, чем суд любых радикалов.
Гоголь пишет, что монарх — это «Божий помазанник, обязанный стремить вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает Бог». Это «тот из людей, на рамена которого обрушилась судьба миллионов его собратий, кто страшною ответственностью за них пред Богом освобожден уже от всякой ответственности пред людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льет, может быть, незримо такие слезы и страждет такими страданьями, о которых и помыслить не умеет стоящий внизу человек, кто среди самых развлечений слышит вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клик Божий, неумолкаемо к нему вопиющий».
Когда цензура не пропускала в книге Гоголя именно тех самых писем, которые он более других почитал нужными, он решил через друзей просить Государя прочесть их. «Кому бы ни было присуждено из вашей фамилии подать мое письмо Государю,— пишет он графине Л. К. Виельгорской,— он не должен смущаться неприличием такого поступка. Всяк из вас имеет право сказать: «Государь, я очень знаю, что делаю неприличный поступок; но этот человек, который просит суда Вашего и правосудия, нам близок; если мы о нем не позаботимся, о нем никто не позаботится; Вам же дорог всяк подданный Ваш, а тем более любящий Вас таким образом, как любит он...»
Если бы все люди так же открыто и просто действовали, без опутавших нас условностей, которые ведь и от нас тоже зависят, которые расхолаживают стремление ко всякому прямому и полезному делу! Если бы мы все были так же искренни друг с другом! Если бы душу каждого человека видели прежде всех его мундиров и постов! Если бы все в России так же относились к Государю и к своему долгу! Нечего было бы больше и желать этому государству...
Да, пусть не все так же открыты к нам, пусть есть настороженность, двоедушие, корысть — ну, так что же? Нам жить по тем же законам? А чем же мы тогда жизнь улучшим?
Не наивность, а искренность: нечего скрывать, нет желания что—то выгадать для себя, ни в чем не заодно со своим темным — вот откуда та прозрачность души, которая людьми, увы, принимается иной раз за наивность. Нет, он слишком хорошо знал человека, то, что у каждого есть струна добра, и счастлив тот, кто сам от этой своей струны не отречется в связи с «обстоятельствами» (какая наивность — думать, что их может не быть!) и другого укрепит в жажде добра.
Вспомним: «Безделицу позабыли...»
Именно отшатнувшись от мерзости, заглянув в глубины сатанинские, и прежде всего в собственной душе, и отшатнувшись от этой леденящей, только мертвой бездны, приходишь к тому, что только и дает жизнь, к абсолютно положительному, детскому по своей вроде бы наивности — а на самом деле по своей чистоте — идеалу.
«Аще не будете малы яко дети, не внидете в Царствие Небесное» (ср. Мк. 10, 15), — написал Гоголь на крохотном листочке в один из последних своих земных дней.
По-настоящему зрячий взгляд видит мерзости действительно такими, каковы они есть: и без розовых очков, и без их романтизации. И эти мерзости доказывают зрячему взгляду одно — правду наивысшую, Евангельскую. Потому что ее всё вообще в этом мiре доказывает. Потому что мip действительно стоит на любви, и ничто обратного, хоть горы мерзостей наворачивай, не докажет. «Подавайте мне всякую мерзость» — и будет видно одно: что в ней — только исключение, а никакое не правило, одна искаженная природа созданной Творцом жизни, а никакое не «разоблаченное» нутро жизни.
В мiре будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мip (Ин. 16, 33).
Существует легенда о «Выбранных местах из переписки с друзьями», будто это — книга боковая не только для гоголевского пути, но и для всей русской литературы.
Но вот мы читаем то, что писал поздний Пушкин — в тот год, когда они расстались с Гоголем, еще не зная, что навсегда,— и слышим в пушкинских словах полное созвучие с тем, что будет сказано Гоголем в его зрелой книге, которую он напишет тоже в тридцать семь лет.
Здесь совсем другой взгляд на русскую жизнь и на пути ее улучшения, чем, скажем, у Радищева. Пушкин писал тогда об авторе «Путешествия из Петербурга в Москву»:
«Он как будто старается раздражить Верховную власть своим горьким злоречием: не лучше ли было бы указать на благо, которое она в состоянии сотворить? Он поносит власть господ, как явное беззаконие: не лучше ли было представить Правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян; он злится на цензуру: не лучше ли было потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы, с одной стороны, сословие писателей не было притеснено и Мысль, священный дар Божий, не была рабой и жертвой безсмысленной и своенравной Управы; а с другой — чтоб писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной? Но все это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна; ибо Правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы, чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью.
<...> Нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви» .
Гоголевский взгляд на пути улучшения нашей жизни имеет не только предшествование в нашей литературе, но и продолжение, прежде всего у Достоевского, который осуществил многое из того, что начал Гоголь (вот почему мы часто обращаемся к его имени: путь Достоевского проясняет путь Гоголя).
За участие в социалистическом революционном кружке, где он читал и письмо Белинского к Гоголю, молодой Достоевский был приговорен к смертной казни, помилован, Государем Николаем I срок каторги был сбавлен вдвое. Четыре важнейших года с Евангелием в руках — единственной дозволенной книгой,— после которых Достоевский вышел в русскую жизнь великим православным писателем, продолжившим миссию Гоголя в русском обществе, на которое все больше находила тень неверия. И, наконец, знаменитая речь Достоевского о Пушкине, главные мысли которой мы можем найти в «Выбранных местах из переписки с друзьями».
Эта речь, которая начиналась гоголевскими словами, кончалась почти так же, как глава «Светлое Воскресение»:
«Будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову Евангельскому закону! <...> Все это покажется самонадеянным: «Это нам-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое слово?» Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемipному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил благословляя» Христос. Почему же нам не вместить последнего слова Его? Да и Сам Он не в яслях ли родился?» .
Нет, данный нам Гоголем план улучшения жизни — не маниловские мечты, не воздушный замок, но продуманная программа, как, исходя из стремления к добру, поступать на разных поприщах, разными способами: и словом, и примером, и в семье, и в исполнении служебного долга, воздав должное Церкви, которая есть то «сокровище» наше, которого мы у себя до сих пор не знаем, «которому цены нет», «которая одна в силах разрешить все узлы и недоумения и вопросы наши».
Реализм гоголевской программы строится на самом прочном основании, какое может быть, — на камени веры.
Да, без веры улучшать жизнь по-настоящему — утопично. Без молитвы — утопично. Без Церкви и ее таинств — одни разговоры.
Но какой же это камень? — недоумевает земное мудрование. Это, наоборот, самое неуловимое — вера — как и душа?
Но вот мы видим, как рушатся горы, высыхают реки, обезцениваются твердые валюты, исчезают «тысячелетние рейхи», заходят «незаходимые солнца», «светлое будущее всего человечества» становится его мрачным прошлым, а вера Христова сияет все ярче и ярче, и все, что ни есть вокруг, вопиет о ее святой правде.
Оказывается, единственная действительная, а не мнимая проблема человечества — наше неверие.
В своей последней книге, которая вышла уже после его смерти, Гоголь дал описание Божественной литургии, чтобы подвести нас к началам понимания той величайшей Жертвы, которая принесена для нашего спасения, чтобы мы соединили свою жизнь с этой главной правдой, опирались на эту самую твердую опору во всем добром. Верующий в Меня дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит (Ин. 14, 12).
В храме, в молитве, в таинствах Церкви, при постоянном святом причащении, которое составляет основу Литургии, таинственно меняется внутренний строй человека, его чувства, его мысли, в его душе крепнет вера.
«Действие Божественной литургии над душою велико: зримо и воочью совершается, в виду всего света, и скрыто. И если только молившийся благоговейно и прилежно следит за всяким действием, покорный призванью диакона, душа его приобретает высокое настроение, заповеди Христовы становятся для него исполнимы, иго Христово благо и бремя легко. <...>
Всех равно уча, равно действуя на все званья, на все сословья, от Царя до последнего нищего, всем говорит одно, одним и тем же языком, всех научает любви, которая есть связь общества, сокровенная пружина всего стройно движущегося, пища, жизнь всего <...>».
Вот — реализм великого реалиста. Вот без чего действительно невозможно духовное и общественное наше совершенствование и спасение.
После перевала
«Зачем я сделался учителем?» — спрашивал себя Гоголь после «вихря недоразумений», который пронесся вслед за выходом «Выбранных мест из переписки с друзьями».
Он знал, что идет на трудное дело, он писал книгу потому, что предчувствовал приближение черной тучи над страной. Но того, какой силы будет волна неприятия, он не предощущал. И когда она прикоснулась к нему своим мертвящим холодом, он пережил глубокую скорбь.
Вот к этой толще будущих лет русской истории прикоснулся он, эта волна от грядущей бури ощутилась им — одним из первых в безконечной череде невообразимых духовных и физических страданий от безбожия, которые переживет народ, переживает до сих пор.
Книга показала степень духовной болезни, которой уже тогда было поражено русское общество. Каково было его состояние в середине XIX века, если ему как открытие нужно было сообщать о том, что только жизнь по правде Христовой может быть жизнью истинной — да и то это было встречено в штыки? Даже теперь, после десятилетий безбожия, к этому отнеслись бы иначе. (Вот в этом и значение всего прожитого за полтора века?)
Он как бы перешагнул через главное — через принятую людьми веру в Сына Божия. Книга показала, что многие вообще отошли от Христа, и многие — незаметно для себя, перестали жить по Христу, перестали помнить, что у этой жизни есть Творец и все происходит по Его Промыслу, что, действительно, волос с головы нашей не падает без воли Того, Кто создал нас и весь мiр. Вот через это принятие веры словно бы перешагнул Гоголь, как бы посчитал общепризнанным — и стал говорить о применении христианского взгляда ко всей нашей жизни. Естественно, люди, даже не противопоставлявшие себя христианству, но не привыкшие (как выяснилось) так смотреть на вещи, углядели в этом нечто странное для себя, враждебное их вполне безпечному отношению к своему внутреннему состоянию, проще говоря — духовному сну, в котором все мы в той или иной степени пребываем.
Он именно не был учителем в своей книге (как и сам говорит в «Авторской исповеди»), не был педагогом, который учитывает больше всего то, что может воспринять сегодня ученик, но говорил как соученик — ученику (да ведь это и были письма друзьям в своей основе — людям, близким по духовному возрасту).
Вот этого чисто духовного состояния общества не учел Гоголь. Он не ожидал того, до какой степени люди не то что не знают истины, но не хотят ее знать. У него не было опыта постоянной, терпеливой проповеди. Он не учитывал всей лавины возражений, которую имеет грешный мip с помощью врага человечества, действующего всеми способами обмана и обольщения, которым он учит людей, — как клеветать на слово Божие, на Его правду, как от этой правды уклоняться под самыми разными предлогами.
Достоевский, который продолжил дело своего учителя, разработал целую систему возражений возможной оппозиции, только этим, можно сказать, и занимался. Он очень всматривался во все, что произошло с его великим предшественником! В том числе и в эту историю, в результаты этой светской проповеди. Он не был участником этой истории — с таким горячим сердцем рванувшимся в бой — он смотрел на нее со стороны, и теперь шел более сознательно и осмотрительно, обходя возможные рифы.
Ведь не потому люди не жили (и не живут) по простой и ясной правде евангельской, не потому отвергают легкое бремя Христово, а мучительно несут тяжесть «легкой» греховной жизни, что им никто не сказал слово истины. Слово это сказано. Истина свидетельствуется непрерывно. Но это-то и говорит лишний раз о том, что тут — не только дело разума, но, прежде всего, — дело души, ее просветленности. Что тут — борьба, самая острая и непримиримая, какая есть на свете, невидимая духовная брань за каждую душу.
Книгу Гоголя критиковало не только безбожие или маловерие, но и люди верующие, духовные лица — конечно, по другой причине.
Если о неприятии первых мы обычно хорошо знаем, то о сути возражений вторых обычно не говорилось.
Была легенда, будто бы под влиянием письма Белинского Гоголь изменил свое отношение к книге. Изменил, да, но не столько под влиянием письма Белинского, которое пришло позже, сколько от серьезной критики тех, кто касался существа дела, важного самому Гоголю. Это и отзывы людей, близких к Гоголю: Шевырёва, Погодина, Аксаковых (замечено, что сочувствие книга вызвала прежде всего у пушкинского кружка). Это и критика святителя Игнатия Брянчанинова, архиепископа Иннокентия Борисова, протоиерея Матфея Константиновского.
«Нелегко применить слово Христово к людям», — писал Гоголь еще в «Выбранных местах из переписки с друзьями».
Святые Отцы, духовенство хорошо знают об этом, у Церкви есть богатый опыт проповеди, исповеди, духовничества, старчества — как словом врачевать души, что и как говорить тому, кто находится в той или иной степени духовной болезни — с молитвой, с помощью Божией — так, чтобы слово не ранило, но исцеляло. Тут свои травы, пластыри, своя фармацевтика. Этот опыт духовного врачевания можно уподобить человеческому опыту врачевания телесных недугов, только духовный опыт сложнее и глубже. Здесь, как и в любой человеческой деятельности, есть особое знание, доступное лишь специалистам в этой, самой тонкой области жизни. Дилетантство здесь особенно соблазнительно — кажется, что не так уж трудно иметь об этом представление, — и может быть особенно пагубно.
И, возможно, профессионал-писатель с добрым, христианским устроением души может больше принести пользы людям, чем он же, но как проповедник-любитель.
Монашество недаром существует. Без смирения нечего и думать о духовном движении вперед, об очищении души, о духовной помощи другим.
Недаром автор «Выбранных мест из переписки с друзьями» имел после книги столько скорбей. Они были ему, конечно же, милостью Божией, отчасти, возможно, наградой за его высокий порыв. Они были движением дальше, к свету. Та высокая цель, которую он перед собой ставил, могла достигаться только при увеличении смирения.
«Трудное было время, — писал он Данилевским 6 (18) марта 1847 года, — испытания были такие страшные и тяжелые, битвы были такие сокрушительные, что чуть не изнемогла до конца душа моя. Но, слава Богу, все пронеслось, все обратилось в добро. Душа человека стала понятней, и чувствую, что это отразится в моих сочинениях».
«Будем исполнять закон Христа относительно тех людей, с которыми нам придется столкнуться <...>, а о России Бог позаботится и без нас», — пишет Гоголь А. П. Толстому 21 июля (2 августа) того же года.
В критике было такое почти расхожее выражение: «Неудача «Выбранных мест...».
Как строго это произведение ни суди, как ни замечай его несовершенств, назвать это важнейшее событие мiровой культуры неудачей — это слишком неточно, это просто неверно.
Это — «неудача» движения, роста. «Неудача» «Выбранных мест из переписки с друзьями» и «удача» любого другого, хорошо закругленного литературного произведения, даже и не помышляющего о серьезной постановке важнейших вопросов жизни — сравнимо ли это?
Из всей этой истории Гоголь сделал два вывода.
Он с новым воодушевлением принялся за «Мертвые души».
Он продолжил работу над «Размышлениями о Божественной литургии».
«Действие Божественной литургии над душою велико...» — писал он.
«Любя добро, сгорая им», он всегда хотел подействовать на душу человека.
Но Литургия, благодать Божия так меняет душу человека, как никакое человеческое слово.
Тот этап жизни Гоголя, который начался после выхода «Выбранных мест из переписки с друзьями», можно назвать: после перевала.
Все время до этого он шел к вершине.
Сначала он смотрел по сторонам, чем живет вся жизнь на склонах. Потом его взор все больше обращался к самой маленькой высшей точке — к вершине. Он так долго шел к ней — и когда она, чистая, предстала перед ним, и вокруг — одно небо, и стало ясно, что ничего лучше вершины нет, — он, пораженный открывшимся ему величественным видом жизни, написал оттуда свой «репортаж» — «Выбранные места из переписки с друзьями».
А потом?
Он пошел назад, вниз?
Но зачем же идти вниз? Что внизу? Он был внизу... Он слишком хорошо знает низину, он так подробно ее прошел...
Не будет ли это спускание — предательством вершины? Отступлением от ее правды? От ее чистоты? Разве есть б’ольшая верность этой чистоте, этой высоте, чем неотступание от нее ни на шаг?
Да, не надо быть односторонним, он знает... Он так и написал в своей книге, в главе «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности».
Но как быть разносторонним, когда открыл самое высокое, что есть, ответ на все вопросы, всегда? Нарочно от него теперь отступить? Уже не быть таким свободным, как в «Переписке» — и нарочно примешивать к своей небесной лазури немного грязи, чтобы было живее, «художественнее», ближе к земле, к тому, чего ждут, что принимают люди?
Он остался на вершине?
Нет. Он пошел вперед.
Он получил дар — смирение, после книги.
Он пошел за перевал. Пошел вниз, неся в сердце эту вершину. Уже только ноги его пошли, но душа его оставалась наверху. Душа его продышалась ветром этой высоты, а скорби сделали этот ветер не мимолетным, но вошедшим в кровь, в сердце. Он пошел уже другим.
Смысл жизни, смысл христианства не в том, чтобы жить только на вершине (хотя и там, в горах, есть монастыри), как и не в том, чтобы жить в низине, не зная, не чувствуя вершины, — но в том, чтобы вся жизнь, в любом ее месте, была обращена к вершине, с ней сверяла себя, дышала ее высотой — ибо это уже другая жизнь, что бы ни происходило.
Тут уже не только открыл правду, как высшее достижение: из неправды — к правде! от тьмы — к свету! — но и живешь обычно, повседневно, прикладывая эту правду ко множеству самых простых положений, вовсе не помнящих о ней, не знающих ее. Тут хоть и скажи, и крикни: «Правда! Вот в чем правда! Давайте все жить по ней!» — не услышат, не поверят. А жить тебе все равно надо — и потом, когда даже слово правды, самое, кажется, большее, что мог им принести, они не услышали, отвергли.
И что же? Назад?
Нет, вперед.
С этой небесной правдой — жить. На земле. Каждый день. Среди этих людей, которые не слышат тебя, не принимают твоего сокровища, — а все равно жить, нисколько не отворачиваясь ни от одного из них, но, наоборот, с еще большей любовью к ним, понимая, что именно в любви тут все дело («Блестит вдали какой-то луч спасенья: святое слово любовь»). Понимая, как им нужен ты, не твое только слово — нате, мол, вот вам мой золотой из богатства, которое я вдруг нашел, — но твое теплое сердце, которое будет согревать их, что бы и где бы ты ни делал, пусть даже и то дело, которое было у тебя до перевала. В каждом деле и слове твоем будет жить эта главная правда, которая, пройдя через твои разум и сердце, выльется на них простой добротой, которую они смогут воспринять и которая будет свидетельствовать об этой же высочайшей истине, в которой будет терпеливо жить твоя мечта об их будущем обращении, отнюдь не скором, может быть, но долгом, долгом их пути, который, возможно, будет не короче твоего...
И на всем пути, сколько бы ни было у вас падений, как бы они ни отвергали даже и этой твоей заботы, ты не отступишь от них, ты будешь жить верой в то, что другого, более короткого пути к добру нет, что любовь и смирение, вера и надежда, молитва и терпение — единственное, но и самое надежное, что ведет нас всех к свету, ко спасению.
Такой путь, таков подвиг Церкви, Глава которой — Христос.
Гоголь писал после «Выбранных мест из переписки с друзьями», после поездки в Иерусалим, после перевала:
«Я так был уверен, что я стал на верхушке своего развития и вижу здраво вещи...»
Как будущий Алеша Карамазов по благословению старца Зосимы, он пошел в мiр, но уже с чувством Бога, Который — везде. В мiр — как в Божье творенье, неотделимое от Творца.
«Очнитесь! Монастырь ваш — Россия!» — писал он в «Выбранных местах…» тому, кто собирался оставить свое гражданское поприще и уйти в монастырь.
Путь после перевала — путь внесения во всё, чем живет человек, христианского начала, без растворения в суете мiра и без отделенности от мipa, в том числе и в культуру — через очищение души художника. Неведомым образом это состояние души сказывается на всем, чего ни коснется человек, говорит само за себя, как бы молча, говорит о Том, Кто ее очистил, освятил.
Гоголь писал после «Выбранных мест...»:
«Не мое дело говорить о Боге. Мне следовало говорить не о Боге, а о том, что вокруг нас, что должен изображать писатель, но так, чтобы каждому самому захотелось бы заговорить о Боге».
Работа над вторым томом «Мертвых душ», которая продолжалась до смерти писателя, была работой именно такой — соединения идеала и обычной жизни.
Но не шла ли работа в ущерб реализму? Были ли в жизни примеры для выражения самого высокого идеала?
Существовала и такая легенда: в «николаевской» России — не было. Вот и причина «творческого кризиса художника». Вот и причина сожжения второго тома.
Жизнь бездонна, и в ее прекрасном, — всегда.
В жизни есть жажда идеала, и это — важнейшая правда жизни, правда каждого человека, без этой правды картина ее никогда не будет достоверной. «Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность» (Ф.М. Достоевский). «Невидимые мiру слезы» — эти великие подвиги духа непрерывно совершаются рядом с нами, хотя заметить их бывает куда труднее, чем «видимый мipy смех», но на них-то все и держится, и подвиги эти не менее высоки, чем громкие доблести запорожцев.
В 1850 году, уже объехав полмiра, Гоголь приехал в Оптину пустынь под тихим старинным Козельском — и дух ее поразил его.
Вот какой должна быть жизнь! Такими должны быть отношения между людьми. Эта жизнь на земле с небесной правдой — такой простой, такой единственной, такой радостной для человека.
Снова мы приезжаем в возрожденную Оптину пустынь. Снова здесь монахи, снова приветливо встречают... Снова идут ночные службы в скиту. Снова чувствуешь, что «благодать видимо здесь присутствует», как писал Николай Васильевич. И уезжаешь с ощущением: вот где жизнь нормальная. Вот почему сюда нужно приезжать — чтобы сравнивать себя с этими людьми и понимать свое несовершенство, о котором забываешь среди мipa, живя с обычным, увы, ощущением «я не хуже других». А ведь можно жить иначе, отсчитывать и свою жизнь от настоящего, истинного — от простоты, сердечности, добродушия, спокойствия, твердой и ясной веры.
Эта детская чистота, эта старческая прозрачная спокойная мудрость, эта приветливость к каждому человеку, кто бы он ни был, совершенно ровный разговор с каждым, совершенно на равных — к каждому человеку отношение положительное, ровное, «без себя», то есть без своих пристрастий, внимание к нему самому — что может быть приветливее, теплее?
Хотя, казалось бы, у монахов какая же нормальная жизнь? Ночные службы, ограничения, только черная одежда. Да, подвиг великий, труд самоотверженный. Но в основе этого труда лежит то, что только и может быть в основе жизни, всегда: любовь, отдача себя ради других. Ради того, чтобы давать нам поддержку своей молитвой, которую они сделали непрерывным, главным своим трудом, и, как все мастера своего дела, достигают в этом особого уменья, которого мы достигнуть без того же труда и опыта не можем. Для мipa идут богослужения ночь напролет — когда всё в мiре спит. Они молятся — и разгоняют тьму, и первыми на рассвете возглашают: Слава Тебе, показавшему нам свет! И глядящие на них, окунающиеся в их жизнь могут получить уверенность в том, что это — не идеальная выдумка писателя, который хочет подстроить жизнь под свой идеал, но — сама жизнь, какой она бывает тогда, когда устроена по закону Христову.
Почти через тридцать лет после Гоголя в Оптину пустынь едет Достоевский и беседует с преподобным Амвросием, учеником преподобного Макария, с которым здесь беседовал Гоголь. А вернувшись, быстро пишет первые главы «Братьев Карамазовых» с их старцем Зосимой...
Такова симфония русской литературы.
Русская литература словно бы восстанавливала из пепла второй том «Мертвых душ», он словно бы и сжег-то его затем, чтобы открыть ей дорогу: Достоевскому, Гончарову с Обломовым, Толстому с темой 1812 года и воскресением Нехлюдова, Тургеневу с его девушками, Некрасову с «Русскими женщинами»...— великой литературе, соединившей в себе высокий идеал и достоверный реализм.
«Признательное Отечество не забудет Вас! — писал Гоголю из Оптиной пустыни монах Порфирий (Григоров). — Дай Бог, чтобы таланты Ваши не увлекли в гордыню. Конечно, невозможно не сознавать и не чувствовать в себе достоинств гениальных; но если они будут в смиренном духе относиться с благодарением к Богу, Который даровал Вам дух премудрости, дух разума, дух страха Божия, тогда воистину блаженны и преблаженны, почтеннейший Николай Васильевич!.., награда на небесах и вечное блаженство ожидает Вас, и эта награда, для которой мы живем, есть цель нашей жизни...»
Казалось, гоголевская судьба завершилась как-то странно, обрывочно, трагично.
Но мы обычно не имели в виду того, что последним его трудом были «Размышления о Божественной литургии».
Эта книга — логическое, стройное, естественное завершение его пути, который был весь устремлен к Тому, «Кто один ясен, как свет».
Сегодня перед нами стоит задача православного просвещения народа. Подтвердились слова Гоголя о том, что «просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь». А это человеку дает не простое слово, пусть и самое совершенное, но духовное, дает богослужение, церковная жизнь.
Гоголь хотел дать нам не только знание того, что происходит в храме — хотя и это нам, как воздух, нужно. Но ведь и до него описаний Литургии было немало. Он хотел своим поэтическим словом согреть наше сердце любовью к богослужению, которое есть «высшая поэзия, совершенная, неизреченная музыка, преобразующая душу красота» (священник Александр Ельчанинов), хотел подвести нас к самому верному слову, к самой главной правде, к самому чистому источнику, какой ни есть на свете... И только после этого уйти.
И вот сегодня мы имеем это сокровище. Для тех, кто только начинает приходить в храм Божий, как малые дети, еще мало что понимая в том, что тут происходит, такое описание есть прямо-таки драгоценный дар, словно бы по заказу для нас столь знакомым пером исполненный.
Предостережения «утописта» Гоголя подтвердились в жизни с точностью один к одному. А настоящей утопией оказалась программа построения жизни без веры и любви.
Нет, не рабский мы народ. Всегда, во все времена были в нем люди, которые твердо стояли за истинную свободу, по слову евангельскому: Уразумеете истину, и истина свободит вы (Ин. 8, 32). Лишь тогда мы действительно несвободны, когда не признаем свободы Христовой, отрекаемся от пути крестного, и в этом — главный наш исторический урок.
Предостережение Гоголя, его последние книги имеют мipoвoe историческое значение.
Наш опыт XX века принадлежит сокровищнице истории. Этот опыт — не недоразумение, не ошибка неумелого народа, который испортил «хорошее дело». Это — всемiрный урок.
Но что же теперь? Как мы осмыслили этот урок? Какую сторону выбрали в главном русском споре? Куда пойдем?
«Много совершилось в мiре заблуждений, которых бы, казалось, теперь не сделал и ребенок, — читаем в «Мертвых душах». — Какие искривленные, глухие, узкие, непроходимые, заносящие далеко в сторону дороги избирало человечество, стремясь достигнуть вечной истины, тогда как перед ним весь был открыт прямой путь, подобный пути, ведущему к великолепной храмине, назначенной царю в чертоги! Всех других путей шире и роскошней он, озаренный солнцем и освещенный всю ночь огнями, но мимо его в глухой темноте текли люди. И сколько раз уже, наведенные нисходящим с Небес смыслом, они и тут умели отшатнуться и сбиться в сторону, умели среди бела дня попасть вновь в непроходимые захолустья, умели напустить вновь слепой туман друг другу в очи и, влачась вслед за болотными огнями, умели-таки добраться до пропасти, чтобы потом с ужасом спросить друг друга: где выход, где дорога? Видит теперь всё ясно текущее поколение, дивится заблужденьям, смеется над неразумием своих предков, не зря, что небесным огнем исчерчена сия летопись, что кричит в ней каждая буква, что повсюду устремлен пронзительный перст на него же, на него, на текущее поколение; но смеется текущее поколение и самонадеянно, гордо начинает ряд новых заблуждений, над которыми так же потом посмеются потомки...»
Еще после русской смуты 1905 года, когда перед нашим обществом встала задача извлечь из этой «генеральной репетиции» должный урок, Сергей Николаевич Булгаков, тогдашний профессор политэкономии, еще не принявший священства (он стал священником после октябрьского переворота), говорил петербургским студентам о сути данного нам урока:
«Мы опытно познали, что нельзя безнаказанно нарушать заповеди: «ищите прежде всего Царствия Божия и правды Его, и вся прочая приложится вам». Мы заботились исключительно об этом прочем, оставляя в небрежении духовный мip человека, эту подлинную творческую силу истории. И мы потеряли духовное равновесие и разбрелись в разные стороны в погоне за этим «прочим», которое все более дробилось и разъединяло людей. И в этом лежит подлинная причина нашего исторического безсилия, слабости творчества при такой энергии разрушения. Только обновленному человеку посильна задача устроения расстроившейся жизни, но обновление это создается не пересмотром программ, или тактики, или новой политической комбинации (как бы ни были важны сами по себе и эти последние). Рождение нового человека, о котором говорится в беседе с Никодимом , может произойти только в недрах человеческой души, в тайниках самоопределяющейся личности».
Мы потратили целый век на то, чтобы убедиться, что все-таки Пушкин, Гоголь, Достоевский — прямая, как стрела, магистральная линия русской литературы, — все православные русские люди, которые призывали держаться евангельской правды в устройстве жизни, — были правы. Что можно приобрести весь мip, но повредить своей душе — и тогда какая польза человеку? (См. Мк. 8, 36).
А обещание, что стоит только человеку сначала завладеть всем мiром, как потом и душа его обогатится (она же, мол, получит для этого все возможности — все царства мiра и славу их), оказалось, разумеется, всего лишь диавольским искушением (Всё это дам Тебе, если падши поклонишься мне, Мф. 4, 8-9), — которое дало в нашей истории свои плоды, известные ныне нам и всему мiру как самый яркий урок в пользу правды Христовой.
Что же говорить теперь, после всех этих десятилетий? Опять не поймем урока?
Нет, почему же, уже поняли, — слышим мы сегодня от новых последователей линии Белинского. Конечно, не революции и потрясения были нам нужны, но тихий переход к благополучной, «нормальной» жизни, как в «цивилизованных» странах люди живут: никаких этих наших ужасов, и «всё есть» — и колбаса, и культура.
Но благополучная жизнь — не признак ее совершенства. «В человеческой истории и культуре, в душе человека и человечества, — писал протоиерей Сергий Булгаков, — борются две стихии, два начала, две реальные силы: светлая, божественная, и темная, демоническая». Отказаться от борьбы с темным в себе, устроить себе жизнь, «приятную во всех отношениях», — это, «в действительности, теория не прогресса, а регресса, по крайней мере в области моральной».
Бездуховный «прогресс» создает наилучшие условия для расцвета темной половины в человеке — да так, чтобы человек и забыл о том, что она темная. Тут как в тылу врага, где нет никаких фронтовых ужасов, все тихо-мирно, но оно и понятно: враг завладел этой территорией, местные жители его не безпокоят, вот и весь секрет «комфорта».
И наше счастье, что нам это не удалось — и не дай Бог, когда-нибудь удастся — сытая жизнь без Бога или с Богом на словах. В конце этого пути, как и революционного, — одно и то же: гибель души человека.
Отец Сергий Булгаков подтвердил предостережения Пушкина, Гоголя и Достоевского, соединил их с реальностью нового века, когда они стали на глазах трагически и неотвратимо сбываться. («То, что Достоевский в «Бесах» и «Преступлении и наказании» описывал лишь как возможность, как предостережение, многим казалось даже, как политический пасквиль, все это у нас вошло в обиход».) Именно к нему обратилась Анна Григорьевна Достоевская с просьбой написать предисловие к собранию сочинений мужа.
О главном русском споре отец Сергий сказал:
«В истории русской мысли сыздавна обозначились и борются до сих пор два течения: одно насчитывает на своей стороне немногих представителей (разумеем среди интеллигенции), но зато в этом числе цвет нашего национального ума и гения, предмет нашей национальной славы и гордости. Это те, которые остались духовно с народом в его мужицкой церкви, во всяком случае не отделились от него в его верованиях в живого Бога. В числе этих немногих мы считаем: Жуковского, Пушкина, Тютчева, в известном смысле Лермонтова, Гоголя, Хомякова, Киреевского, Чаадаева, Аксаковых, В. Соловьева, Достоевского, Пирогова, А. Толстого, даже Некрасова и Льва Толстого, насколько он вообще стоит на религиозной почве.
Противорелигиозное идейное течение, считающее в своих рядах большинство прогрессивных публицистов и общественных деятелей от Белинского до наших дней, усвоило себе рационалистически-атеистическое мiровоззрение, которое широкой волной разлилось и составляет господствующую веру русской интеллигенции. Я не обмолвился: это неверие есть действительно вера, вера в научность, рационализм, в неверие».
О том, какую роль в судьбе России сыграл отход большей части русской интеллигенции от магистрального нашего духовного, культурного, исторического пути, протоиерей Сергий Булгаков говорил:
«Философско-религиозное кредо русской интеллигенции, объединяющее большинство ее молодых и старых представителей без различия политических оттенков, именно ее атеистический нигилизм, я признаю одним из важнейших факторов русской истории и одной из основных причин, определивших течение событий последних лет в России... Старая вера и связанный с ней духовный строй рушатся, дичку народной души делается совершенно новая прививка. Такой силы, столь исключительной важности прививки, которую теперь делает народу наша интеллигенция, не делала и не могла сделать ему ни Москва, ни татарщина, ни Петербург; только Владимир Святой совершил равного значения дело, крестив Русь, которую интеллигенция теперь постепенно раскрещивает».
В свете этой правды огромным видится значение сделанного Гоголем, который, как писал протоиерей Василий Зеньковский в своей книге «Гоголь» (Париж, 1961 г.), «был пророком православной культуры (и доныне впрочем лишь остающейся темой пророческих упований), — то есть переработки проблем культуры в свете Православия, его учения о свободе, о соборности». Гоголь, по словам Зеньковского, разрушил ту «китайскую стену», которая отгораживала наше духовенство от интеллигенции. Всей своей судьбой, своей строкой он звал нашу интеллигенцию соединить свою жизнь, свое служение с Православием. В этом — спасение интеллигенции, избавление от вольного или невольного служения злу (даже и с добрыми намерениями, вдохновенно и целеустремленно). В этом — ее соединение с народом, непротивопоставление ни в чем себя ему, любовь к нему. И потому в этом — единство и спасение всей нации, соединившейся в заповеданную предками единую силу, устремленную к истинной цели.
«Нет, вернуться на старые духовные позиции нельзя, мы отделены пропастью, полной мертвецов, мы выросли и исторически постарели, безполезно и недостойно нам молодиться, — предостерегал отец Сергий Булгаков. — Надо начать что-то новое, учесть исторический опыт, познать в нем самих себя и свои ошибки... Потребно самоуглубление, самоисследование, потребно накопление духовных сил, творчество культуры.
Разных сторон должно коснуться это самообновление, но если спуститься на самое дно в глубину души, то это создание новой личности и новой жизни должно начаться религиозным самоуглублением, новым и более сознательным религиозным самоопределением. Новый человек, новый тип общественного деятеля может родиться лишь на почве самоуглубления, это будет то новое русской жизни, о чем, умирая, мечтал Достоевский в последнем своем романе, то новое, чего не было в русской жизни последних лет и что, может быть, и загубило последнее общественное движение и обрекло его на безсилие. Россия, за единичными исключениями, не видала еще христианской интеллигенции, которая пыл своей души, жажду своего служения людям вложила бы в христианский подвиг деятельной любви и победила бы ту тяжелую атмосферу вражды и человеконенавистничества, в которой мы задыхаемся и в которой ничто, кроме разрушения, не может спориться. В нашей интеллигенции так много потенциальной религиозной энергии, она неотступно приносит жертвы на своем алтаре «неведомому богу», — неужели же навсегда это неведение? Я знаю, как далека от действительности, как смешна может казаться эта мечта о христианской интеллигенции и прекращении того разрыва между интеллигенцией и народом, который поддерживается теперь религиозным разноверием. Но слишком прекрасна эта мечта, чтобы можно было с ней расстаться, и слишком нужно для жизни ее осуществление, нужен новый сев, новая влага, изливающаяся на иссохшую растрескавшуюся землю. В этой духовной опустошенности нашей эпохи, в этой ее безысходности заключается наша величайшая надежда, духовная смерть может оказаться кануном духовного воскресения, как это было и XIX веков назад, как это неоднократно было потом в истории, когда христианский пламень с новой силой вспыхивал из едва тлеющего костра».
В этих словах начала XX века слышна надежда последних страниц «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя, последних слов речи Достоевского о Пушкине.
Эта надежда как никогда близка нам сегодня.
На нашей земле вновь решается, пойдет ли страна к новым болотным огням — или к истинному свету. К тому свету, который так мечтал увидеть в наших очах наш великий соотечественник, Николай Васильевич Гоголь.
Жизнь его была проникнута желанием предостеречь Россию от той беды, к которой она неслась уже во весь опор.
И сердце его переполнялось восторгом от ее полета и сжималось в предчувствии глубочайших страданий, которые ждут ее на скорбном и великом ее пути.
«Гоните прочь с души все мутное! – писал Гоголь одному из своих юных современников. – На ясный, на свежий воздух! На труд! Сильней и крепче воздвигайте упор в душе своей всему, что низменно и чем соблазняет свет. Помните вечно, какой земли гражданин вы и что никому не предстоит столько трудов и работ, как гражданину сей земли, и что есть Таинственная Рука, которая поведет вас на прекрасное и высокое».
Протоиерей Николай Булгаков